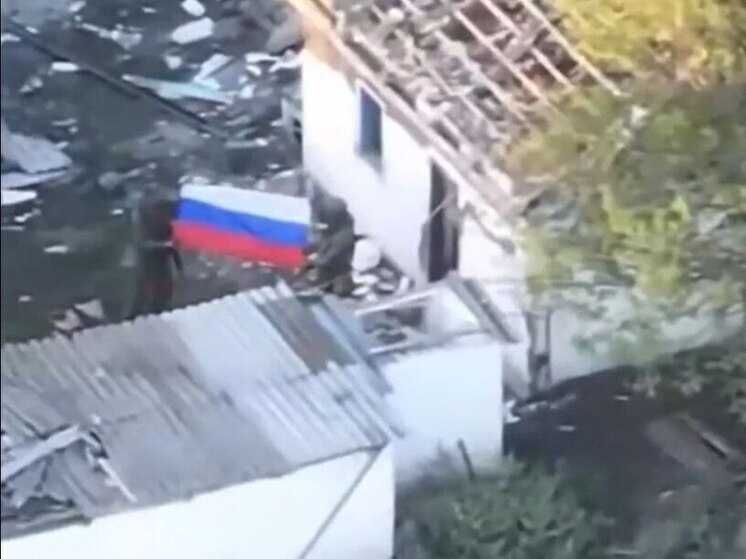Разное горевание
— Я знаю, что в вашей семье есть представители калмыков, но вы сами не калмычка, почему же именно к истории этого народа, если убрать личные отношения, вы обратились?
— Вы знаете, если убрать личные отношения, объяснить ничего не получится. Если бы в свое время я дважды не редактировала воспоминания своего свекра, до этой книги, конечно, не дошла. Если бы на каждом семейном празднике он не рассказывал историю калмыцкого народа от Адама до Потсдама, я бы тоже не дошла до этой книги. И если бы не ковид, я не дошла бы до этой книги.
— А ковид здесь причем?
— Мой литературный наставник Ольга Александровна Славникова долго уговаривала меня писать этот роман. И я всячески отказывалась, потому что это очень большая ответственность писать о народе, к которому ты не принадлежишь. Это гиперответственность. И только, когда случился ковид, и стало понятно, что, собственно говоря, завтра тебя может и не быть, и никто не напишет этот роман, тогда я взялась за него.
— В вашем романе главы — это годы. Выбор конкретных дат чем был определен — рассказами свёкра (а, стало быть, это лишь важные даты семейной истории) либо вехами в истории нашего государства или калмыцкого народа? А может это вообще просто все произвольно — вы просто так брали дату, а потом вокруг неё рисовали историю своих героев?
— Нет, конечно, это все так называемые реперные точки в истории. Например, там самая первая драматическая история — это чума, которая прошла по Поволжью. И я старалась, чтобы читатель увидел разницу отношения к смерти у калмыков и других народов. У них разное отношение к гореванию, ощущению и продолжению жизни. Эта разница менталитета задается с самого начала.
И остальные все точки очень существенны в истории калмыков. Мне было очень важно написать именно историю в семь десятков лет, трех поколений, именно для того, чтобы читатель увидел эволюцию. И я специально брала как центрального персонажа, человека в состоянии молодого возраста — дед, отец и сын, всегда, когда повествование идет от их лица, всегда очень молодые люди с незамутненным сознанием.

Служить сюзерену
— Калмыки у вас на протяжении книги взаимодействуют с другими народами. Русские, немцы, украинцы... В отношениях между народами всегда есть тонкая грань, там всегда много личного. У одной семьи хорошие отношения, у другой — нет. Не довлел ли личный взгляд на этот вопрос?
— Нет, это не мой личный взгляд. Поскольку калмыки всегда жили в окружении других народов с тех пор, как пришли на Волгу и Дон, они предпочитали строить добрососедские и дружественные отношения со всеми. Мне было очень важно прописать, что хорошего было взято калмыками из всего окружающего пространства, вот для чего мне нужны были эти диалоги. Это нужно, чтобы понять разницу менталитета одних и других, увидеть, как они сближались. И вообще для меня по жизни самое важное — это межкультурная коммуникация, ее позитивный выплеск — что можно сделать для того, чтобы люди разной ментальности и разных культур понимали и принимали друг друга.
А еще разговоры, встречи между разными народами в романе мне нужны были, потому что я просто не могла обойти стороной особую казацкую речь. Дело в том, что я сама жила в Поволжье, мой дедушка еще говорил вполне себе на суржике. И меня всегда завораживал суржик — переходный вариант между русским, украинским и южными диалектами …
— В вашей книге донские калмыки позиционируют себя как казаки?
— Они и есть казаки. Донские калмыки имели все их права. Донских казаков собственно никогда и не делили на калмыцких и некалмыцких. Да у них были отдельные полки в определенных ситуациях, но во главе русских полков, например, были выходцы из калмыков и наоборот. Основная задача донских калмыков была служить царю, поэтому все скотоводство, другие занятия — уже почти баловство.
— Ровно год назад именно в этих же креслах мы сидели с писателем Леонидом Юзефовичем и говорили о его романе «Поход на Бар-Хото». И в вашей книге видим тот же самый сюжет, точнее, того же самого персонажа — Джа-ламу. Страшного человека, которого многие считали бессмертным. Но смотрите вы на него совершенно с разных сторон — Юзефович взглядом русского офицера, вы — взглядом красного калмыка.
— Который должен был отсечь ему голову. Я понимаю ощущения героя Юзефовича, но мои герои не могут также думать, также ощущать.
— Как же два писателя, независимо друг от друга, вдруг приклеились к одному достаточно малоизвестному в большой истории персонажу?
— Я бы к нему и не приклеилась, если бы мне не подсказали. Я ничего не знала о Джа-ламе, но нужно было какими-то событиями заполнить 20-е годы. И мне предложили — отправь своего героя в Монголию, ведь донских калмыков (целую бригаду под псевдонимами) специально посылали, чтобы они убили его и отрубили ему голову. Я стала читать, погрузилась в совершенно фантастическую историю этого астраханского калмыка, узнала, что его голова хранится до сих пор у нас в Кунсткамере. И, конечно же, мне захотелось вписать эту историю в свой сюжет.
— Насколько калмыки в начале вашего романа отличаются от калмыков в его конце, насколько они разные люди, было бы им о чем поговорить, оказавшись за одним столом?
— Им бы, несомненно, нашлось о чем разговаривать. Другое дело, что люди, провернутые через мясорубку советской власти, это, конечно, другие люди с другими понятиями. Но здесь, очень важно понимать, что для калмыков всегда было важно служить сюзерену. Кто он было неважно — монгольский хан, Белый царь, советская власть, они дали клятву. Держать клятву, для них самое главное. Быть лояльным государству и на сегодняшний день для калмыков очень важно.
— В этом сила этого народа или его слабость?
— Это не сила и не слабость, это данность.
— На ваш взгляд, чем вызван сейчас повышенный интерес россиян к своим корням, к своей истории?
— Считаю, что в наше время это, собственно, то, за что мы можем удержаться в реальности. Когда все меняется со скоростью света, когда черное становится белым, а белое черным, а потом наоборот, и мы должны это принять, чтобы просто выжить, единственное, базовое, что остаётся неизменным, это твой род.